ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 05.08.2024
Просмотров: 675
Скачиваний: 1
СОДЕРЖАНИЕ
Умберто Эко Пражское кладбище От переводчика
1 Прохожий, в то серое мартовское утро
10 Далла Пиккола в затруднении
13 Далла Пиккола пишет, что Далла Пиккола – это не он
23 Двенадцать правильно истраченных лет
24 Однажды ночью во время мессы
– Окончим же совещание, – прогремел тринадцатый голос. – Если первая по могуществу сила – это золото, то вторая – печать. Необходимо расставить наших на командные посты всех газет во всем мире. Сделавшись абсолютными хозяевами прессы, мы сможем изменять общественные представления о чести, добродетели, прямоте. Подорвем авторитет семьи. Сделаем вид, что нас интересуют модные социальные темы. Взнуздаем пролетариат. Запустим наших агитаторов в революцию. Тогда мы сможем по усмотрению руководить ею. По нашей указке рабочий пойдет на баррикады. Общественные катастрофы приблизят нас к желанному результату: главенствовать на земле, что и было обещано нашему праотцу Аврааму. Всемогущество наше возрастет, как гигантское дерево, плоды которого – богатство, наслаждения, довольство, власть. Это вознаградит нас за жалкое существование во множестве веков. За тяжкую судьбу народа Израиля.
Так кончался, насколько я помню, рапорт о тайном собрании на кладбище.
Я восстановил, что сумел. Совершенно измотался. Может быть, оттого, что постоянно подкреплял и физические и духовные силы неоднократными возлияниями. А вот что до аппетита – со вчерашнего вечера не могу помыслить о еде. Все время тошнит. Проснулся – меня вырвало. Переработал, вероятно. А может, меня просто вывернуло от ненависти? По прошествии стольких лет, возвратясь усилием памяти ко мною же сочиненной интриге о пражском некрополе, я теперь понимаю, что эта работа, эта моя столь убедительная версия еврейского заговора – детище того отвращения, которое было в меня в детстве заложено. Вначале это была, ну, идеальная и головная антипатия. Головная, вбитая мне в голову дедушкой одновременно с катехизисом. А тут вдруг все это обрело плоть и кровь. И тогда, как раз с тех пор, как я сумел воплотить свои идеи в картину этой анафемской ночи, вся моя лють, вся желчь на иудейское вероломство преобразовались из абстракции в безудержную, глубокую страсть. Вот уж точно, если кто не побывал этой жуткой ночью на еврейском кладбище в Праге, черт возьми, или хотя бы не прочел мое правдивое повествование об этом факте, не сможет осознать, до чего нестерпимо переносить, что эта проклятущая раса так преподло отравляет нашу жизнь!
Лишь прочтя и перечтя документальный отчет, я осознал, сколь судьбоносна моя миссия. Теперь я должен был во что бы то ни стало продать кому-нибудь созданный мною отчет. Покупатели в него поверят, лишь если выложат за него золотую цену. Поверят и помогут сделать так, чтобы поверилось другим…
Но на сегодня хватит. Ненависть (просто даже само одно воспоминание о ненависти) калечит душу. Руки трясутся. Лягу-ка я спать, лягу-ка спать, спать.
13 Далла Пиккола пишет, что Далла Пиккола – это не он
5 апреля 1897 г.
Нынче я проснулся в собственной кровати. Туалет и, как водится, легкий грим – затем отправился читать ваш дневник. Вы утверждаете, будто встречали аббата Далла Пиккола, и описываете некое лицо более старшего, чем я, возраста и с горбом. Я посмотрелся в зеркало, оно имеется в вашем обиталище. У меня, как у духовного лица, зеркала быть не может. Посмотрелся у вас. Убедился, что черты мои правильны, нет ни косоглазия, ни выкаченных зубов. И у меня очень приличное французское произношение с незначительным итальянским акцентом. Кто такой аббат, который встречался с вами под моим именем? И кстати, кто такой я?
14 «Биарриц»
5 апреля 1897 г., перед обедом
Я проснулся, когда утро уже кончалось, и нашел в моем дневнике вашу запись. Вы, однако, ранняя пташка. Дорогой аббат! Боже мой… Если вы прочитаете эту запись в ближайшие дни (или ночи…), знайте, что и я ломаю голову: кто вы? Потому что я вспомнил тут вдруг, что я лично вас убил! Еще до войны! Не разговариваю же я с привидением? Я лично вас убил… Почему я уверен сегодня в этом? Попробуем отыскать логику. Но сперва мне надо поесть. Странное дело, вчера я не мог без отвращения помыслить о пище, а сегодня поглотил бы все, что видят глаза. Если бы мне можно было выйти на улицу, я пошел бы первым делом к врачу.
Завершив свою повесть о собрании на еврейском кладбище в Праге, я созрел для собеседования с полковником Димитрием. Памятуя, как воздавал в свое время Брафман должное французской гастрономии, я пригласил и полковника туда же, в ресторан «Роше де Канкаль», но этот еле ковырял
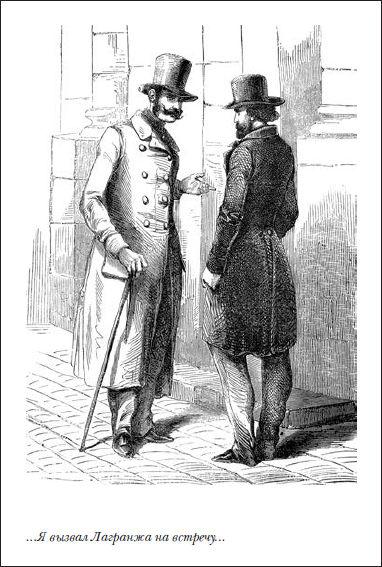
заказанное. Глаза продолговатые, зрачки острые и суженные, как у ласки. Впрочем, ласок я никогда не видел, я их ненавижу – с евреями в точности так же.
Димитрий, похоже, обладал сильнейшим даром подавлять собеседников. Он внимательно прочитал мое творение и сказал: – Интересно. Сколько?
Ну и удовольствие иметь дело с таким. Выпалил ему несусветную цифру – пятьдесят тысяч франков, по случаю того, что информаторы обошлись мне очень дорого. – Многовато, – процедил Димитрий. – То есть многовато для меня. Попробуем поделить расходы. У нас крепкие связи с прусской тайной службой. В Пруссии тоже есть еврейский вопрос. Я уплачу вам двадцать пять тысяч франков золотом и дам вам позволение показать этот документ пруссакам. Договорюсь с ними сам. Пусть выплачивают вторую половину. Они, естественно, захотят получить оригинал, такой же, как вы сейчас передаете мне. Но насколько мне известно от Лагранжа, у вас талант размножать оригиналы. Тот, кто свяжется с вами, будет носить фамилию Штибер.
И ни слова не добавил. Коньяк не пожелал, откланялся скорее по-немецки, чем по-русски: вытянулся и резко мотнул книзу подбородок. Счет оплачивал я.
Я вызвал Лагранжа на встречу. Я уже слышал от него об этом Штибере. Штибер работал в резидентуре пруссаков, большая шишка; специалист по сбору информации за рубежом; умело втирается в организации и подпольные группы; десяток лет тому назад собрал ценные сведения о том самом Марксе, который беспокоил и немцев и англичан. Не то он сам, не то его агент Краузе, он же Флери, под видом доктора вошел в ближний круг Маркса и выкрал из его квартиры список всех членов коммунистической лиги. Это позволило захватить опасных смутьянов. Стоило трудиться, парировал я. Эти коммунисты, если дали так себя обштопать, надо думать – дурачье, каких поищи. Далеко бы они все равно не ушли. Но Лагранж сказал, что никогда заранее не знаешь.
Что предпочтительнее перебрать, чем недобрать.
– Лучшие наши сотрудники теряются, если приходится действовать против того, что уже налицо. Наше ремесло – предвосхищать. Мы расходуем немаленькие деньги, организовывая заварушки на бульварах. Все устраивается достаточно просто. Дюжина-другая бывших острожников плюс столько же переодетых полицейских, налет на два-три ресторана или на два-три борделя под пение «Марсельезы». Поджечь пару киосков. После чего являются наши, в форме, и арестовывают всех, инсценируя потасовку.
– А какой от всего этого прок?
– Прок такой, что почтенные буржуа живут и трясутся, то есть крепится уверенность: сильная рука, хочешь не хочешь, а хороша. Если нам пришлось бы подавлять настоящие бунты, неведомо кем устроенные, мы бы так легко не управились. Но мы говорили о Штибере. Когда его назначили начальником прусской тайной полиции, он отправился по городкам и местечкам Восточной Европы под видом уличного фигляра и все записывал и запоминал. Везде он вербовал себе агентов – по пути маршрута, по которому предположительно должна была двинуться прусская армия от Берлина на Прагу. То же самое он ныне делает во Франции. На случай войны, которая рано или поздно обязательно начнется.
– Так не лучше ли бы было мне не общаться с этим субъектом?
– Наоборот. Надо же как-нибудь обуздать его. Поэтому пусть навербованные им агенты будут нашими агентами. К тому же вы собираетесь передавать ему информацию по евреям. Нас евреи не интересуют. То есть, сотрудничая с ним, вы ни в чем не ущемляете интересы Франции.
На следующей неделе мне принесли записку от этого Штибера. Он спрашивал, не затруднит ли меня приехать в Мюнхен, повстречаться с его доверенным лицом, неким херром Гёдше, и передать ему мой доклад. Меня конечно же это затрудняло. Но очень уж хотелось получить деньги.
Лагранж на вопрос, знает ли он Гёдше, ответил: Гёдше прежде служил на почте и заодно был агентом-провокатором прусской тайной полиции. После беспорядков 1848 года, с целью запутать одного предводителя демократов, Гёдше составил подложные письма, из коих вытекало, будто бы тот собирался убить короля. Остается сделать вывод, что в Берлине имелся хоть один стоящий судья, поскольку на суде было выявлено, что письма подложные. Гёдше обесславили. Работу на почте он потерял. Да это было бы полбеды, но провал сильно испортил его репутацию в тайных службах: пусть доказательства твои поддельные, но пусть тебя не ловят с поличным.
Гёдше осталось строчить исторические романы под именем сэра Джона Ретклиффа и сотрудничать в антисемитском листке «Крейццайтунг». Специальные службы использовали его лишь как распространителя всяких известий, как истинных, так и ложных, на темы о евреях.
Ну так это именно тот, кто мне нужен, возрадовался я. Лагранж меня охладил: скорее всего, мое дело было передано Гёдше в силу того, что мой отчет пруссакам представляется совершенно не важным, поэтому уполномочили самого заурядного мелкого клерка ознакомиться с ним, для очистки совести, и отвадить меня. – Не может быть! Немцам мой отчет еще как интересен! – возмутился я. – Обещали же они мне за него значительную сумму денег! – Кто обещал? – поинтересовался Лагранж. И, узнав, что обещал за немцев Димитрий, оскалился: – Ну, русские, Симонини! Русские вам обещали, и этим все сказано. Трудно ли им обещать от имени немцев? А вот вы поезжайте все-таки в Мюнхен, нам ведь тоже интересно знать, что у них там происходит. И имейте в виду, что Гёдше бессовестный мерзавец. Иначе он бы соответствующим ремеслом не занимался.
Надо сказать, прозвучало это не так уж вежливо и в моем отношении, хотя, может быть, в категорию мерзавцев Лагранж включал любые, даже и высокие ранги сыскных сотрудников, то есть заодно и самого себя. Ну, что так, что эдак: ежели оплата того стоит, статочное ли дело мне оскорбляться.
Кажется, я высказывал в этом дневнике впечатления от той мюнхенской пивной, где баварцы сходятся за длиннейшими табльдотами, локоть к локтю, обжираясь колбасой и выпивая кружки – каждая объемом с таз. Женщины и мужчины. Женщины то и дело прыскают, они шумнее и вульгарнее мужчин. Вот уж точно немцы низшая раса. Мне стоило трудов, после переезда, который и сам был трудоемким, прооставаться целых два дня на их тевтонской земле.
Именно в таком пивном погребе Гёдше назначил мне деловое свидание. И должен сказать, что мой немецкий шпиончик выглядел ровно как будто родился рыскать по подобным углам. Платье наимоднейшего покроя не переменяло его лисичью наружность типа, живущего на подачки.