ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 16.05.2024
Просмотров: 602
Скачиваний: 0
189
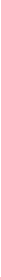 зазывалы,
который оправдывает самую грубую
шутливость» (в комментариях к ученому
изданию Рабле под ред. А. Лефрана).
зазывалы,
который оправдывает самую грубую
шутливость» (в комментариях к ученому
изданию Рабле под ред. А. Лефрана).
Кончается пролог к третьей книге изумительной по своей живости и динамике -площадной бранью. Автор приглашает своих слушателей пить полными стаканами из его неисчерпаемой, как рог изобилия, бочки. Но он приглашает только добрых людей, любителей вина и веселья, умеющих выпить. Прочих же — паразитов и педантов, кляузников и придир, надутых и чванных лицемеров — он гонит прочь от своей бочки:
«Вон отсюда, собаки! Пошли прочь, не мозольте мне глаза, капюшонники чертовы! Зачем вас сюда принесло, нюхозады? Обвинять вино мое во всех грехах, писать на мою бочку? А знаете ли вы, что Диоген завещал после его смерти положить его палку подле него, чтобы он мог отгонять и лупить выходцев с того света, цербероподобных псов? А ну, проваливайте, святоши! Я вам задам, собаки! Убирайтесь, ханжи, ну вас ко всем чертям! Вы все еще здесь? Я готов отказаться от места в Папомании, только бы мне вас поймать. Я вас, вот я вас, вот я вас сейчас! Ну, пошли, ну, пошли! Да уйдете вы наконец? Чтоб вам не испражняться без порки, чтоб вам мочиться только на дыбе, чтоб возбуждаться вам только под ударами палок!»
Ругательства и побои здесь имеют более определенного адресата, чем в прологе к «Пантагрюэлю». Этот адресат — представители мрачной старой правды, средневекового мировоззрения, «готического мрака». Они мрачно серьезны и лицемерны. Они носители мрака преисподней, «выходцы с того света, цербероподоб-ные псы», они поэтому застят солнце. Они враги новой, вольной и веселой правды, которая представлена здесь бочкой Диогена, превратившейся в бочку с вином. Они осмеливаются критиковать это вино веселой истины и мочиться в бочку. Здесь имеются в виду доносы, клеветы, гонения агеластов на веселую правду. Рабле дает интересную форму брани. Эти враги пришли, чтобы «culieUtisarticulermonvin...». Слово «articuler» значит «критиковать», «обвинять», но Рабле слышит в нем и слово «cub(зад) и придает ему бранный, снижающий характер. Именно для того, чтобы превратить слово «articuler» в ругательство, он настраивает его на «cub: для этого он ставит впереди слово «culletans» («виляя задом»). В заключительной главе «Пантагрю-
190
эля» Рабле применяет этот способ брани в более развернутом виде. Он говорит там о лицемерных монахах, которые проводят время за чтением «пантагрюэличе-ских книг», но не для веселья, а для доносов и клеветы на них, и поясняет: «scavoirestarticw/ant,monarticw/ant,torticw/ant,cullet&nt, couilletantetdiablica/ant,c'esta direcolumniant»'. Таким образом, духовная цензура (имеется в виду цензура Сорбонны), эта клевета на веселую правду, сбрасывается в телесный низ, к заду (cul) и к производительным органам (couilles). В следующих за этим строках Рабле углубляет это гротескное снижение, сравнивая духовных цензоров с теми оборванцами, которые по деревням в сезон вишни роются в детских испражнениях, выбирая из них вишневые косточки для продажи.
Вернемся к завершению пролога. Его динамичность усиливается еще тем, что Рабле вводит традиционный крик пастухов, с помощью которого они науськивали собак (он передан с помощью gzz,gzzz,gzzzzz). Последние строки пролога — резкое бранное снижение. Чтобы выразить абсолютную бездарность и непродуктивность мрачных клеветников на вино веселой истины, автор заявляет, что они не способны даже мочиться, испражняться и приходить в чувственное возбуждение, если их предварительно не изобьют. Другими словами, их продуктивность вызывается только страхом и страданием (в подлинном тексте «sangladesd'estrivieres» и «al'estrapade» — термины пыток и площадных наказаний кнутом). Этот мазохизм мрачных клеветников является здесь гротескным снижениемстрахаистрадания,этих ведущих категорий средневекового мировоззрения. Образ испражнений от страха является традиционным снижением не только труса, но и самого страха: это одна из важнейших разновидностей «темы Мальбрука». Эту тему Рабле подробно разрабатывает в последнем написанном им самим эпизоде романа, завершающем четвертую книгу. Панург, который в последних двух книгах романа (особенно в четвертой) стал благочестивым и трусливым человеком, напуганный мистическими фантазиями, принял
' В русском переводе Н. М. Любимова это передано так: «Все они — вертишейки, подслушейки, подглядуны, бл..уны, бесопослуш-ники, сиречь наушники, вот она, их ученость». Адекватный перевод этого места, конечно, совершенно невозможен.
191

«Сдерживающая сила нерва, которая стягивает сфинктер (т.е. задний проход), ослабла у него под внезапным действием страха, вызванного фантастическими его видениями. Прибавьте к этому грохот канонады, внизу казавшийся несравненно страшнее, нежели на палубе, а ведь один из симптомов и признаков страха в том именно и состоит, что дверка, сдерживающая до поры до времени каловую массу, обыкновенно в таких случаях распахивается» (кн. IV, гл.LXVII).
Далее Рабле рассказывает историю о сиенце Пан-дольфо де ла Кассино, который, страдая запором, упросил крестьянина напугать его вилами, после чего он отлично облегчился. Рассказывает он и другую историю о том, как Вийон похвалил английского короля Эдуарда за то, что тот повесил в своем клозете герб Франции, внушавший королю страх. Этим король думал унизить Францию, но на самом деле вид страшного для него герба помогал ему облегчаться (это древняя история, дошедшая до нас в нескольких вариантах, начиная с XIIIвека, относится она в разных вариантах к различным историческим лицам). Во всех этих историях страх — средство от запора.
Такое снижение страдания и страха является чрезвычайно существенным моментом в общей системе снижений средневековой серьезности, проникнутой страхом и страданием. Этому снижению мрачной серьезности посвящены, в сущности, и все прологи Рабле. Мы видели, что пролог к «Пантагрюэлю» пародийно травестировал на веселом языке площадной рекламы средневековые методы единоспасающей истины. Пролог к «Гаргантюа» снижает «сокровенный смысл» и «тайну», «ужасающие мистерии» религии, политики и экономики путем перевода их в пиршественный план еды и питья. Смех должен освободить веселую правду о мире от затемняющих ее оболочек мрачной лжи, сотканных серьезностью страха, страдания и насилия. Такова же и тема пролога к третьей книге. Это защита веселой истины и права на смех. Это снижение мрачной и клеветнической средневековой серьезности. Заключительная сцена ругани и изгнания мракобесов, разыгранная у Диогеновой бочки с вином (символ
192
веселой и вольной правды), дает динамическое завершение всем этим снижениям.
Было бы совершенно неправильно думать, что раблезианское снижение страха и страдания путем их сведения к испражнениям является грубым цинизмом. Нельзя забывать, что образ испражнений, как и все образы материально-телесного низа, амбивалентен, что в нем был жив и ощутим момент производительной силы, рождения, обновления. Мы уже приводили доказательства этому. Мы находим здесь и новые. Говоря о «мазохизме» мрачных клеветников, Рабле рядом с испражнениями ставит половое возбуждение, то есть способность к производительному акту.
В конце четвертой книги Панург, обделавшийся под влиянием мистического страха и осмеянный за это своими спутниками, освободившись наконец от этого страха и повеселев, произносит следующие слова:
«Ха-ха-ха! Ох-хо-хо! Дьявольщина, вы думаете, это что? По-вашему, это дристня, дерьмо, кал, г...., какашки, испражнения, кишечные извержения, экскременты, нечистоты, помет, гуано, навоз, котяхи, скибал или же спираф? А по-моему, это гибернийский шафран. Ха-ха, хи-хи! Да, да, гибернийский шафран! Села! Итак, по стаканчику!»
Это — последние слова четвертой книги и, в сущности, последние слова и всего романа, написанные самим Рабле. Здесь дается пятнадцать синонимов для кала,— от вульгарнейших до ученых. В заключение кал объявляется «гибернийский шафраном», то есть чем-то весьма драгоценным и приятным. И кончается эта тирада призывом выпить, что на языке раблезианских образов значит приобщиться истине.
Здесь раскрывается амбивалентность образа кала, его связь с возрождением и обновлением и его особая роль в преодолении страха. Кал — это веселаяматерия.В древнейших скатологических образах, как мы уже говорили, кал связан с производительной силой и с плодородием. С другой стороны, калмыслится какнечтосреднеемеждуземлеюи телом, нечтороднящееих. Кал также нечто среднее между живым телом и телом мертвым, разлагающимся, превращающимся в землю, вудобрение;тело отдает кал земле при жизни; калоплодотворяет землю,каки тело умершего человека. Все эти оттенки значения Рабле еще отчетливо ощущал
193
7-205
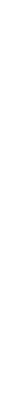 и
осознавал, и они, как мы увидим дальше,
не были чужды и его медицинским
воззрениям. Для него, как для художника
и наследника гротескного реализма, кал
был, кроме того,веселойиотрезвляющейматерией,иснижающейиласковойодновременно,сочетающейв
себемогилуи рождение
в их наиболее
у л е г -ченнойи нестрашно-смешной
форме.
и
осознавал, и они, как мы увидим дальше,
не были чужды и его медицинским
воззрениям. Для него, как для художника
и наследника гротескного реализма, кал
был, кроме того,веселойиотрезвляющейматерией,иснижающейиласковойодновременно,сочетающейв
себемогилуи рождение
в их наиболее
у л е г -ченнойи нестрашно-смешной
форме.
Поэтому ничего грубо-циничного нет и не может быть в скатологических образах Рабле (как и в аналогичных образах гротескного реализма). Забрасывание калом, обливание мочой, осыпание градом скатологических ругательств старого и умирающего (и одновременно рожающего) мира — это веселоепогребениеего, совершенно аналогичное (но в плане смеха) забрасыванию могилы ласковыми комьями земли или посеву — забрасыванию семян в борозду (в л о -но земли). В отношении мрачной и бестелесной средневековой правды это есть ее веселое отелеснивание, ее смеховое приземление.
Всего этого нельзя забывать при анализе скатологических образов, которых так много в романе Рабле.
Вернемся к прологу к третьей книге. Мы пока коснулись только его начала и его конца. Начинается он площадным «криком» балаганного зазывалы, а кончается площадной бранью. Но здесь дело этими уже знакомыми нам площадными формами еще не исчерпывается. Площадь здесь раскрывает новую и очень существенную свою сторону. Мы слышим голос площадного герольда-глашатая, объявляющего о мобилизации, об осаде, о войне и мире, обращающегося с призывом ко всем сословиям и цехам. Мы видим историческое лицо площади.
Центральный образ третьего пролога — Диоген и его поведение во время осады Коринфа. Образ этот, по-видимому, непосредственно заимствован Рабле из трактата Лукиана «Как следует писать историю», но ему был также хорошо известен и латинский перевод этого эпизода, данный Бюде в его посвящении к «Аннотациям к пандектам». Но краткий эпизод этот у Рабле совершенно преобразился. Он полон аллюзий на современные события борьбы Франции с Карлом Vи на оборонные мероприятия, предпринятые в Париже. Эти мероприятия граждан изображены во всех деталях. Дается знаменитое перечисление оборонных работ и во-
194
оружений. Это — самое богатое в мировой литературе перечисление военных объектов и оружия. Например, только для шпаги дается тринадцать терминов, для копья — восемь терминов и т. д.
Это перечисление различных видов оружия и оборонных работ носит специфический характер. Это громкаяплощаднаяноминация.Примеры таких номинаций мы встречаем в литературе позднего средневековья, особенно широко в мистериях; в частности, мы встречаем здесь и длинные перечисления (номинации) вооружений. Так, в «Мистерии Ветхого завета» (XVвек) офицеры Навуходоносора, во время смотра, перечисляя вооружение, называют сорок три вида оружия.
В другой мистерии, «Мученичество святого Кан-тена» (конец XVвека), вообще очень богатой всякого рода номинациями, начальник римского войска дает аналогичное перечисление сорока пяти видов оружия.
Эти перечисления носят народно-площадной характер. Это смотр и показ вооруженных сил, долженствующий импонировать народу. Аналогичные номинации через герольда-глашатая различных родов оружия, полков (знамен) давались при призывах и мобилизациях и при выступлениях в поход (см. у Рабле призывы Пикрохола); аналогичны номинации имен награжденных, имен павших и т. п. Все это громкие, торжественные, монументальные номинации, долженствующие импонировать самым количеством имен и названий, самою длиною своею (как и в данном случае у Рабле).
Длинные перечисления имен, названий или нагромождение глаголов, эпитетов, перечисления, занимающие иногда по нескольку страниц, были обычны в литературе XVиXVIвеков. Их чрезвычайно много и у Рабле; например, в том же третьем прологе даются шестьдесят четыре глагола для обозначения всех тех действий и манипуляций, которые проделывает Диоген со своей бочкой (здесь они должны служить параллелью к военной активности граждан); в той же третьей книге дается триста три эпитета, характеризующих мужской половой орган в хорошем и дурном состоянии, и двести восемь эпитетов для характеристики степени глупости шута Трибуле; в «Пантагрюэле» перечисляется сто сорок четыре названия книг, находящихся в библиотеке Сен-Виктора; в той же книге при описа-
195
!'■■
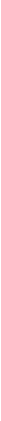 нии
преисподней перечисляется семьдесят
девять персонажей; в четвертой книге
перечисляются сто пятьдесят четыре
имени поваров, вошедших в «свинью»
(эпизод колбасной войны); в той же книге
даются двести двенадцать сравнений
при описании Каремпренана и перечисляются
сто тридцать восемь блюд, подносимых
гастролятрами своему богу. Все эти
перечисления-номинации проникнутыхвалебно-бранной
(притом гиперболизирующей) оценкой. Но,
конечно, между отдельными перечислениями
имеются существенные различия, и они
служат разным художественным целям.
К художественному и стилистическому
значению этих перечислений мы еще
вернемся в последней главе. Здесь мы
отмечаем лишь один специфический их
тип — парадно-площадную монументальнуюноминацию.
нии
преисподней перечисляется семьдесят
девять персонажей; в четвертой книге
перечисляются сто пятьдесят четыре
имени поваров, вошедших в «свинью»
(эпизод колбасной войны); в той же книге
даются двести двенадцать сравнений
при описании Каремпренана и перечисляются
сто тридцать восемь блюд, подносимых
гастролятрами своему богу. Все эти
перечисления-номинации проникнутыхвалебно-бранной
(притом гиперболизирующей) оценкой. Но,
конечно, между отдельными перечислениями
имеются существенные различия, и они
служат разным художественным целям.
К художественному и стилистическому
значению этих перечислений мы еще
вернемся в последней главе. Здесь мы
отмечаем лишь один специфический их
тип — парадно-площадную монументальнуюноминацию.