ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 16.05.2024
Просмотров: 599
Скачиваний: 0
Смех, как дар бога одному человеку, приводится здесь в связи и с властью человека над всем миром, и с наличием у него разума и духа, которых нет у животных.
По Аристотелю, ребенок начинает смеяться не раньше, чем на сороковой день после рождения,— только с этого момента он как бы впервые и становится человеком. Рабле и его современники знали также утверждение Плиния о том, что только один человек в мире начал смеяться с самого рождения — Зороастр; это понималось как предзнаменование его божественной мудрости.
Наконе'ц, третий источник ренессансной философии смеха, это — Лукиан, в особенности его образ смеющегося в загробном царстве Мениппа. Особой популярностью пользовалось в эту эпоху произведение Лукиана «Менипп, или Путешествие в подземное царство». Это произведение оказало существенное влияние и на Рабле, именно на эпизод пребывания Эпистемо-на в преисподней («Пантагрюэль»). Большое влияние имели также его «Разговоры в царстве мертвых». Вот несколько характерных отрывков из этих последних.
«Тебе, Менипп, советует Диоген, если ты уже вдоволь насмеялся над тем, что творится на земле, отправиться к нам (то есть в загробное царство),где можно найти еще больше поводов для смеха; на земле тебе мешали смеяться кое-какие сомнения, вроде постоянного: «кто знает, что будет за гробом?» —Здесь же ты беспрестанно и без всякого колебания будешь смеяться, как я вот смеюсь...» («Диоген и Полидевк», цитирую по переводу в издании Сабашникова:Лукиан.Сочинения, т. 1. Перевод под ред. Зелинского и Богаевско-го, М., 1915, с. 188).
«Тогда ты, Менипп, брось свою свободу духа и свободу речи, брось свою беззаботность, благородство и
Бог, который подчинил человеку весь мир, Только одному человеку разрешил смех, Чтобы веселиться, но не животному, Которое лишено и разума и духа.
80
81
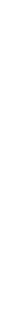
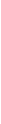 смех:
никто ведь, кроме тебя, не смеется»
(«Харон, Гермес и разные мертвые», там
ж е, с. 203).
смех:
никто ведь, кроме тебя, не смеется»
(«Харон, Гермес и разные мертвые», там
ж е, с. 203).
«Xа р о н. Откуда ты выкопал, Гермес, этого киника? Всю дорогу болтал,высмеивал и вышучивал всех, сидевших в лодке, и, когда все плакали, он один пел.
Гермес.Ты не знаешь, Харон, какого мужа ты перевез! Мужа,безгранично свободного, не считающегося ни с кем! Это Менипп!» («Харон и Менипп», там ж е, с. 226).
Подчеркнем в этом лукиановском образе смеющегося Мениппа связь смеха с преисподней (и со смертью), со свободой духа и со свободой речи.
Таковы три наиболее популярных античных источника ренессансной философии смеха. Они определяли не только трактаты Жубера, но и ходячие в гуманистической и литературной среде суждения о смехе, о его значении и ценности. Все три источника определяют смех как универсальное, миросозерцательное начало, исцеляющее и возрождающее, существенна связанное с последними философскими вопросами, то есть именно с теми вопросами «устроения жизни и смерти», которые Монтень уже мыслил себе только в серьезных тонах.
Рабле и его современники знали, конечно, античные представления о смехе и по другим источникам: по Афинею, по Макробию, по Авлу Геллию и другим, знали, конечно, и знаменитые слова Гомера о неистребимом, то есть вечном, смехе богов («aofieoroQ угХас,», «Илиада», 1, 599, и «Одиссея»,VIII, 327). Они отлично знали и о римских традициях свободы смеха: о сатурналиях, о роли смеха во время триумфов и в чине похорон знатных лиц1. Рабле, в частности, делает неоднократные
1 Большой материал об античной традиционной свободе осмеяния дает Рейх, в частности, о свободе смеха в мимах. Он приводит соответствующее место из «Тристий» Овидия, где этот последний оправдывает свои легкомысленные стихи, ссылаясь на традиционную мимическую свободу и дозволенную мимическую непристойность. Он цитирует Марциала, который в своих эпиграммах оправдывает перед императором свои вольности ссылкой на традицию осмеяния императоров и полководцев во время триумфов. Рейх анализирует интересную апологию мима, принадлежащую ритору VI в. Хлорициу-су, во многом параллельную ренессансной апологии смеха. Защищая мимов, Хлорициус прежде всего должен был встать на защиту смеха. Он рассматривает обвинение христиан в том, что вызванный мимом смех от дьявола. Он заявляет, что человек отличается от ж и в о т -ного благодаря присущей ему способности говорить и смеяться. И боги у Гомера смеялись, и Афродита
аллюзии и ссылки как на эти источники, так и на соответствующие явления римского смеха.
Подчеркнем еще раз, что для ренессансной теории смеха (как и для охарактеризованных нами античных источников ее) характерно именно признание за смехом положительного, возрождающего, творческого значения. Это резко отличает ее от последующих теорий и философий смеха до бергсоновской включительно, выдвигающих в смехе преимущественно его отрицательные функции1.
Охарактеризованная нами античная традиция имела существенное значение для ренессансной теориисмеха, дававшей апологию литературной смеховой традиции, вводившей ее в русло гуманистических идей. Самая же художественная практика смеха Ренессанса определяется прежде всего традициями народной смеховой культуры средневековья.
Однако здесь, в условиях Ренессанса, имеет место не простое продолжение этих традиций,— они вступают в совершенно новую и высшую фазу своего существования. Вся богатейшая народная культура смеха в средние века жила и развивалась вне официальной сферы высокой идеологии и литературы. Но именно благодаря этому внеофициальному своему существованию культура смеха отличалась исключительным радикализмом, свободой и беспощадной трезвостью. Средневековье, не допустив смех ни в одну из официальных областей жизни и идеологии, предоставило ему зато исключительные привилегии на вольность и безнаказанность вне этих
«сладко улыбалась». Строгий Ликург воздвиг смеху статую. Смех — подарок богов. Хлорициус приводит и случай излечения больного с помощью мима, ч е р е з вызван и ы й м и м о м с м е х. Эта апология Хлорициуса во многом напоминает защиту смеха в XVI в., и, в частности, раблезианскую апологию его. Подчеркнем универсалистский характер концепции смеха: он отличает человека от животного, он божественного происхождения, наконец, он связан с врачеванием — исцелением (см.: Reich. Der Mimus, S. 52 — 55, 182 и далее. 207 и далее).
' Представления о творческой силе смеха'были свойственны и неантичной древности. В одном египетском алхимическом папирусе III в. н. э., хранящемся к Лейдене, сотворение мира приписывается божественному смеху: «Когда бог смеялся, родились семь богов, управляющих миром... Когда он разразился смехом, появился свет... Он разразился смехом во второй раз — появились воды...» При седьмом взрыве смеха родилась душа. См.: Reinach S., Le Rire ritnel (в его книге: «Cultes, Mythes et Religions». Paris. 1908, v.IV, p. 112 — 113).
S3
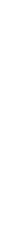 областей:
на площади, во время праздников, в
рекреативной праздничной литературе.
И средневековый смех сумел широко и
глубоко использовать эти привилегии.
областей:
на площади, во время праздников, в
рекреативной праздничной литературе.
И средневековый смех сумел широко и
глубоко использовать эти привилегии.
И вот в эпоху Возрождения смех в его наиболее радикальной, универсальной, так сказать, мирообъемлю-щей и в то же время в его наиболее веселойформе один только раз в истории на какие-нибудь пятьдесят — шестьдесят лет (в разных странах в разные сроки) прорвался из народных глубин вместе с народными («вульгарными») языками в большую литературу и высокую идеологию, чтобы сыграть существенную роль в создании таких произведений мировой литературьглгсак «Декамерон» Боккаччо, роман Рабле, роман Сервантеса, драмы""й~ комедии* Шекспира и другие. Грани между официальной и неофициальной литературой в эту эпоху неизбежно должны были пасть, отчасти и в силу того, что эти грани на важнейших участках идеологии проходили по линии раздела языков — латинского и народного. Переход литературы и отдельных областей идеологии на народные языки должен был на время смести или, во всяком случае, ослабить эти грани. Целый ряд других факторов, связанных с разложением феодального и теократического строя средних веков, также содействовал этому смешению и слиянию официального с неофициальным. Народная культура смеха, веками слагавшаяся и отстаивавшаяся в неофициальных формах народного творчества — зрелищных и словесных — ив неофициальном быту, смогла подняться до самых верхов литературы и идеологии, чтобы оплодотворить их, а затем — по мере стабилизации абсолютизма и формирования новой официальности — спуститься в низы жанровой иерархии, осесть в этих низах, в значительной степени оторваться от народных корней, измельчать, сузиться, выродиться.
Целое тысячелетие внеофициального народного смеха ворвалось в литературу Ренессанса. Этот тысячелетний смех не только оплодотворил эту литературу, но и сам был оплодотворен ею. Он сочетался с самой передовой идеологией эпохи, с гуманистическим знанием, с высокой литературной техникой. В лице Рабле слово и маска (в смысле оформления всей личности) средневекового шута, формы народно-праздничного карнавального веселья, травестирующий и всепародирующий задор демократического клирика, речь и жест ярмарочного бателера сочетались с гуманистической ученостью,
84
с наукой и практикой врача, с политическим опытом и знаниями человека, который, как конфидент братьев Дю Белле, был интимно посвящен во все вопросы и секреты высокой мировой политики своей эпохи. Средневековый смех в этой новой комбинации и на этой новой ступени своего развития должен был существенно измениться. Его всенародность, радикализм, вольность, трезвость и материалистичность из стадии своего почти стихийного существования перешли в состояние художественной осознанности и целеустремленности. Другими словами, средневековый смех на ренессансной ступени своего развития стал выражением нового свободного и критического историческогосознания эпохи. Он мог им стать только потому, что в нем за тысячелетие его развития в условиях средневековья были уже подготовлены ростки и зачатки этой историчности, потенции к ней. Как же складывались и развивались формы средневековой культуры смеха?
* * *
Как мы уже сказали, смех в средние века находился за порогом всех официальных сфер идеологии и всех официальных, строгих форм жизни и общения. Смех был вытеснен из церковного культа, феодально-государственного чина, общественного этикета и из всех жанров высокой идеологии. Для официальной средневековой культуры характерна односторонняясерьезностьтона. Самое содержание средневековой идеологии с ее аскетизмом, мрачным провиденциализмом, с ведущей ролью в ней таких категорий, как грех, искупление, страдание, и самый характер освященного этой идеологией феодального строя с его формами крайнего угнетения и устрашения,-— определили эту исключительную односторонность тона, его леденящую окаменелую серьезность. Серьезность утверждалась как единственная форма для выражения истины, добра и вообще всего существенного, значительного и важного. Страх, благоговение, смирение и т. п.— таковы были тона и оттенки этой серьезности.
Уже раннее христианство (в античную эпоху) осуждало смех. Тертуллиан, Киприан и Иоанн Златоуст выступали против античных зрелищных форм, особенно против мима, против мимического смеха и шуток. Иоанн Златоуст прямо заявляет, что шутки и смех идут не от
85

Но самая эта исключительная односторонняя серьезность официальной церковной идеологии приводила к необходимости легализовать вне ее, то есть вне официального и канонизованного культа, обряда и чина, вытесненные из них веселость, смех, шутку. И вот рядом с каноническими формами средневековой культуры создаются параллельные формы чисто смехового характера.
В формах и самого церковного культа, унаследованных от античности, проникнутых влиянием Востока, подвергшихся также и некоторому влиянию местных языческих обрядов (преимущественно обрядов плодородия), наличны зачатки веселья и смеха. Они могут быть вскрыты и в литургии, и в похоронном обряде, и в обряде крещения, и в обряде свадьбы, и в целом ряде других религиозных ритуалов. Но здесь эти зачатки смеха сублимированы, подавлены и заглушены2. Зато их приходится разрешать в околоцерковном и околопраздничном быту, допускать даже существование параллельно культу чисто смеховых форм и обрядов.
Таковы прежде всего «праздники дураков»^, (festastultorum,iatuorum,follorum), которые справлялись школярами и низшими клириками в день св. Стефана, на новый год, в день «невинных младенцев», в «богоявление», в иванов день. Праздники эти первоначально справлялись в церквах и носили вполне легальный характер, потом они стали полулегальными, к исходу же средневековья и вовсе нелегальными; но они продолжали существовать на улицах, в тавернах, влились в масленичные увеселения. Особую силу и упорство праздник дураков (fetedesfous) проявлял именно во Франции. Праздники дураков в основном носили характер пародийной травестии официального культа, сопровождались переодеваниями и маскировками, непристойными
танцами. Особенно необузданный характер эти увеселения низшего клира носили на новый год и в праздник богоявления.