ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 16.05.2024
Просмотров: 652
Скачиваний: 0
Проследим основные актуально-политические темы третьей и четвертой книг.
Мы уже говорили, что центральный образ пролога к «Третьей книге» — оборона Коринфа — отражает современные оборонные мероприятия Франции, в частности, Парижа, в связи с ухудшением отношений с императором. Мероприятия эти проводились Жаном Дю Белле, и Рабле был, по-видимому, их непосредственным свидетелем. Первые главы «Третьей книги», посвященные мудрой и гуманной политике Пантагрюэля в завоеванных землях короля Анарха, являются почти прямым прославлением политики Гильома Дю Белле в оккупированном Францией Пьемонте. Рабле находился во время этой оккупации при Гильоме Дю Белле в качестве секретаря и близкого доверенного человека и был, таким образом, непосредственным и посвященным свидетелем всех мероприятий своего шефа.
Гильом Дю Белле — сеньор Ланже — один из самых замечательных людей того времени. Он был, по-видимому, единственным из современников, кому беспощадно трезвый и требовательный Рабле не мог отказать в из-
496
вестном уважении. Образ сеньора Ланже поразил его и оставил след в его романе.
Рабле был тесно связан с Гильомом Дю Белле на последнем этапе его политической деятельности; он присутствовал и при его кончине, он набальзамировал его тело и доставил его к месту погребения. Он вспоминает о последних минутах сеньора Ланже в «Четвертой книге» романа.
Политика Гильома Дю Белле в Пьемонте завоевала глубокие симпатии Рабле. Дю Белле стремился прежде всего привлечь на свою сторону население оккупированных областей; он старался поднять экономику Пьемонта; армии было запрещено угнетать население, и она была подчинена строгой дисциплине. Более того, Дю Белле завез в Пьемонт огромное количество хлеба и распределил его среди населения, на что затратил и все свое личное состояние1. Это было в те времена совершенно новым и неслыханным в методах военной оккупации. Первая глава «Третьей книги» изображает эту пьемонтскую политику сеньора Ланже. Ведущий раблезианский мотив главы — плодородие и всенародное изобилие. Он начинает с плодородия утопийцев (подданных Пантагрюэля), а затем вводит прославление оккупационной политики Дю Белле (в данном случае — Пантагрюэля) :
«Да будет вам известно, гуляки, что для того, чтобы держать в повиновении и удержать вновь завоеванную страну, вовсе не следует (как ошибочно полагали иные тиранического склада умы, этим только навредив себе и себя же опозорив) грабить народ, давить, душить, разорять, притеснять и управлять им с помощью железных палок; одним словом, не нужно есть и пожирать народ, вроде того царя, которого Гомер называет неправедным демовором, то есть пожирателем народа... Словно новорожденного младенца, народ должно поить молоком, нянчить, занимать. Словно вновь посаженное деревцо, его должно подпирать, укреплять, охранять от всяких бурь, напастей и повреждений. Словно человека, оправившегося от продолжительной и тяжкой болезни и постепенно выздоравливающего, его должно лелеять, беречь, подкреплять...» (кн. III, гл. 1).
1 После его смерти наследникам почти ничего не пришлось получить. Даже пенсия, завещанная им Рабле, по-видимому, так и не выплачивалась последнему из-за отсутствия средств.
497
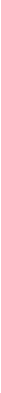

Эти чисто раблезианские и вместе с тем карнавально-праздничные образы народа и властителя необычайно расширяют и углубляют актуально-политический, остро злободневный вопрос пьемонтской оккупации. Они приобщают этот момент к большому целому растущего и обновляющегося мира.
Сеньор Ланже, как мы уже сказали, оставил глубокий след во всей третьей и четвертой книгах романа. Воспоминания об его образе и последних минутах его жизни играют существенную роль в тех главах «Четвертой книги», которые посвящены смерти героев и которые по своему почти вполне серьезному тону довольно резко выделяются из всего романа. Основа, заимствованная у Плутарха, сочетается здесь с образами кельтской героики из цикла странствий в северо-западную страну смерти (в частности, из «Путешествия святого Брендана»). Все эти главы о смерти героев — своего родареквиемсеньоруЛанже.
Но более того, сеньор Ланже определил и образ самого героя третьей и четвертой книг, то есть образ Пантагрюэля. Ведь Пантагрюэль последних двух книг уже не похож на мистерийного чертенка, пробудителя жажды, героя веселых фацетий. Он становится в значительной мере идеальным образом мудреца и властителя. Вот как он охарактеризован в «Третьей книге»: «Я уже вам говорил и еще раз повторяю: то был лучший из всех великих и малых людей, какие когда-либо опоясывались мечом. Во всем он видел только одно хорошее, любой поступок истолковывал в хорошую сторону. Ничто не удручало его, ничто не возмущало. Потому-то он и являл
498
собой сосуд божественного разума, что никогда не расстраивался и не волновался. Ибо все сокровища, над коими раскинулся небесный свод и которые таит в себе земля, в каком бы измерении ее ни взять: в высоту, в глубину, в ширину или же в длину, не стоят того, чтобы из-за них волновалось наше сердце, приходили в смятение наши чувства и разум» (кн. III, гл.II).
В образе Пантагрюэля ослабляются мифические и карнавальные черты. Он становится более человечным и героичным, но одновременно он приобретает и несколько отвлеченный и хвалебно-риторический характер. Это изменение образа Пантагрюэля совершилось, по-видимому, под воздействием впечатлений от личности сеньора Ланже, образ которого Рабле и попытался увековечить в своем «Пантагрюэле»1.
Однако эту идентификацию Пантагрюэля с сеньором Ланже нельзя преувеличивать: это лишь один из моментов образа, основа которого остается фольклорной, следовательно, более широкой и глубокой, чем риторическое прославление сеньора Ланже.
«Четвертая книга» полна аллюзий на современные политические события и актуальные вопросы. Мы видели, что и самый маршрут путешествия Пантагрюэля сочетает в себе древний кельтский путь в утопическую страну смерти и возрождения с реальными колониальными исканиями того времени — с путем Жака Картье.
В эпоху написания «Четвертой книги» резко обострилась борьба Франции против папских притязаний. Это нашло свое отражение в главах о декреталиях. В то время, когда эти главы писались, они носили почти официальный характер и соответствовали галликанской политике королевской власти, но когда книга вышла в свет, конфликт с папой был почти полностью улажен; таким образом, публицистическое выступление Рабле несколько запоздало.
Аллюзии на актуальные политические события содержатся и в таких важных эпизодах «Четвертой книги», как эпизод колбасной войны (борьба женевских кальвинистов) и эпизод бури (Тридентский собор).
Ограничимся приведенными фактами. Все они достаточно свидетельствуют о том, насколько политическаясовременность,ее события,
1 Идентификацию Гильома Дю Белле и Пантагрюэля последовательно проводит Лот (с. 387 и далее).
499
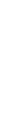
 еезадачиипроблемыотражалисьвроманеРабле.Книга Рабле — своего рода «обозрение»,
настолько она актуальна и злободневна.
Но в то же время проблематика раблезианских
образов несравненно шире и глубже
любого обозрения, выходя далеко за
пределы ближайшей современности и всей
эпохи.
еезадачиипроблемыотражалисьвроманеРабле.Книга Рабле — своего рода «обозрение»,
настолько она актуальна и злободневна.
Но в то же время проблематика раблезианских
образов несравненно шире и глубже
любого обозрения, выходя далеко за
пределы ближайшей современности и всей
эпохи.
В борьбе сил своей эпохи Рабле занимал самые передовыеи прогрессивные позиции. Королевскаявластьбыла для него воплощением тогоновогоначала,которому принадлежалоближайшееисторическоебудущее —начала национального государства. Поэтому он одинаково враждебно относился как к претензиям папства, так и к претензиям империи на высшую наднациональную власть. В этих претензиях папы и императора он видел умирающее прошлое готических веков, внациональномжегосударствеонвиделновоеимолодоеначалонароднойи государственной исторической жизни.Это была егопрямаяи в то же времявполнеискренняяпозиция.
Такой же прямой, открытой и искренней была и его позиция в науке и культуре: он был убежденным сторонником гуманистической образованности с ее новыми методами и оценками. В области медицины он требовал возврата к подлинным источникам медицины античной — к Гиппократу и Галену — и был врагом арабской медицины, извратившей античные традиции. В области права он также требовал возврата к античным источникам римского права, не замутненным варварскими толкованиями невежественных средневековых комментаторов. В военном деле, во всех областях техники, в вопросах воспитания, архитектуры, спорта, одежды, быта и нравов он был убежденным сторонником всего того нового и передового, что в его время могучим и неудержимым потоком хлынуло из Италии. Во всех областях, оставивших след в его романе (а роман его энциклопедичен) , он был передовым человеком своей эпохи.Он обладал исключительнымчувством нового,но не просто нового, не новизны и моды,— а тогосущественнонового,которое действительно рождалось из смерти старогои которому действительнопринадлежалобудущее. Умение почувствовать, выбрать и показать это
500
существенно новое, рождающееся было у Рабле исключительно развито.
Эти свои передовые позиции в области политики, культуры, науки и быта Рабле прямо и односмысленно выражал в отдельных местах своего романа, в таких, например, эпизодах, как воспитание Гаргантюа, Телемское аббатство, письмо Гаргантюа Пантагрюэлю, рассуждение Пантагрюэля о средневековых комментаторах римского права, беседа Грангузье с паломниками, прославление оккупационной политики Пантагрюэля и т. п. Все эти эпизоды в большей или меньшей степени риторичны, и в них преобладает книжный язык и официальный стиль эпохи. Здесь мы слышим прямоеи почти до концасерьезноеслово. Это слово новое, передовое,последнеесловоэпохи.Ив то же время этовполнеискреннееслово Рабле.
Но если бы в романе не было других эпизодов, другого слова, другого языка и стиля,— то Рабле был бы одним из передовых, но р я д о в ы х гуманистов эпохи, пусть и первого ряда; он был бы чем-то вроде Бюде. Но он не был бы гениальным и единственным Рабле.
Последнее слово эпохи,искреннеи серьезно утверждаемое, все же не было еще последним словомсамогоРабле.Как бы оно ни было прогрессивно, Рабле знал меру этой прогрессивности; и хотя он произносил последнее слово своей эпохи серьезно,— он знал меру этой серьезности. Действительно последнеесловосамогоРабле— этовеселое,вольноеи абсолютно трезвое народноеслово,которое нельзя было подкупить тойограниченноймеройпрогрессивности и правды, которая быладоступнаэпохе.Этому веселому народному слову были открыты гораздо более далекие перспективы будущего, пусть положительные очертания этого будущего и были еще утопическимии неясными. Всякая определенность и завершенность,доступные эпохе, были в какой-томере смешными, ибо были все же ограниченными.Но смех был веселым, ибо всякая ограниченнаяопределенность (и потому завершенность),умирая и разлагаясь, прорасталановыми возможностями.
Последнее слово самого Рабле нужно поэтому искать не в перечисленных нами прямых и риторизованных эпизодах романа, где слова почти однозначны и одно-
501
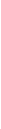
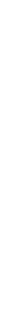
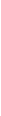 смысленны
и почти до конца серьезны,— а в той
народно-праздничной стихии образов,
в которую погружены и эти эпизоды (почему
они и не становятся до конца односторонними
и ограниченно серьезными). Как бы ни был
Рабле серьезен в этих эпизодах и в своих
прямых и односмысленных высказываниях,
он всегда оставляетвеселуюлазейкув болеедалекоебудущее,которое сделает
смешными
относительную
прогрессивность иотносительнуюправду,доступные
его эпохе и ближайшему
зримому будущему.Поэтому Рабле
никогда
не исчерпываетсебяв своих
прямых
высказываниях.Это, конечно, не романтическаяирония,
это народная
широта
и требовательность,переданные ему со всею системой
народно-праздничных смеховых форм и
образов.
смысленны
и почти до конца серьезны,— а в той
народно-праздничной стихии образов,
в которую погружены и эти эпизоды (почему
они и не становятся до конца односторонними
и ограниченно серьезными). Как бы ни был
Рабле серьезен в этих эпизодах и в своих
прямых и односмысленных высказываниях,
он всегда оставляетвеселуюлазейкув болеедалекоебудущее,которое сделает
смешными
относительную
прогрессивность иотносительнуюправду,доступные
его эпохе и ближайшему
зримому будущему.Поэтому Рабле
никогда
не исчерпываетсебяв своих
прямых
высказываниях.Это, конечно, не романтическаяирония,
это народная
широта
и требовательность,переданные ему со всею системой
народно-праздничных смеховых форм и
образов.
* * *
Таким образом, современная действительность, так широко и полно отраженная в романе Рабле, освещена народно-праздничными образами. В их свете даже лучшие перспективы этой действительности представляются все же ограниченными и далекими от народных идеалов и чаяний, воплощенных в народно-праздничных образах. Но вследствие этого современная действительность вовсе не утрачивала своей конкретности, наглядности и живости. Напротив, в исключительно трезвом светенародно-праздничных образов все вещи и явления действительности приобретали особеннуювыпуклость,полноту,материальность и индивидуальность. Они освобождалисьот всех узких и догматических смысловыхсвязей.Они раскрывались в абсолютновольнойатмосфере. Этим определяется и исключительное богатство и многообразие вещей и явлений, вовлеченных в роман Рабле.