ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 16.05.2024
Просмотров: 659
Скачиваний: 0
291 10*
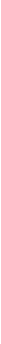 торжествует
производительная сила. Атмосфера этого
центрального акта праздника распространяется
на всехи на все;
тумаки
являются
ее излучением.
Далее, утопический момент здесь,
как и во всех народно-праздничных
утопиях, носит абсолютно веселый
характер (ведь тумаки легкие, шутливые).
Наконец — и это очень важно — утопия
здесь хотя и разыгрывается только,
но разыгрывается безвсякойрампы,разыгрывается
в самой жизни. Она, правда, строго
ограничена во времени — сроками
свадебного пира, но на этот срок никакой
рампы нет: нет разделения на участников
(исполнителей) и зрителей, здесь все
— участники. На время отмены обычного
миропорядка новый утопический строй,
его сменивший, суверенен и распространяется
на всех. Поэтому и сутяги, попавшие на
брачный пир случайно, принуждены
подчиниться законам утопического
царства и не могут жаловаться на побои.
Между игрой-зрелищем и жизнью здесь нет
резкой границы: одно переходит в другое.
Поэтому де Баше и мог использовать
игровую форму свадебного пира, чтобы
всерьез и реально расправиться с
ябедниками.
торжествует
производительная сила. Атмосфера этого
центрального акта праздника распространяется
на всехи на все;
тумаки
являются
ее излучением.
Далее, утопический момент здесь,
как и во всех народно-праздничных
утопиях, носит абсолютно веселый
характер (ведь тумаки легкие, шутливые).
Наконец — и это очень важно — утопия
здесь хотя и разыгрывается только,
но разыгрывается безвсякойрампы,разыгрывается
в самой жизни. Она, правда, строго
ограничена во времени — сроками
свадебного пира, но на этот срок никакой
рампы нет: нет разделения на участников
(исполнителей) и зрителей, здесь все
— участники. На время отмены обычного
миропорядка новый утопический строй,
его сменивший, суверенен и распространяется
на всех. Поэтому и сутяги, попавшие на
брачный пир случайно, принуждены
подчиниться законам утопического
царства и не могут жаловаться на побои.
Между игрой-зрелищем и жизнью здесь нет
резкой границы: одно переходит в другое.
Поэтому де Баше и мог использовать
игровую форму свадебного пира, чтобы
всерьез и реально расправиться с
ябедниками.
Отсутствие строгой рампы характерно для всех народно-праздничных форм. Утопическая правда разыгрывается в самой жизни. На краткий срок эта правда становится до известной степени реальной силой. Поэтому-то и можно с ее помощью расправиться с заклятыми врагами этой правды, как это и сделали де Баше и мэтр Виллон.
В обстановке «трагического фарса» Виллона мы находим все те же самые моменты, что и в «nopces a mitai-nes» де Баше. Дьяблерия была народно-праздничной площадною частью мистерии. Сама мистерия, конечно, имела рампу; дьяблерия как составная часть мистерии ее также имела. Но было в обычае разрешать перед постановкой мистерии — иногда уже за несколько дней — «чертям», то есть участникам дьяблерии в их костюмах, бегать по городу и даже по окрестным деревням. Об этом имеется ряд свидетельств и документов.
Так, например, в 1500 году в городе Амьене несколько клириков и мирян подали ходатайство разрешить постановку «мистерии страстей господних», причем они особо ходатайствовали о разрешении «faire courir les personnages des diables». Одна из самых знаменитых и популярных дьяблерии вXVI веке давалась в Шомоне
292
(Chaumont в департаменте Верхней Марны)1. Дьяблерия эта составляла часть «Мистерии Иоанна». В оповещениях о шомонской мистерии всегда особо указывалось, что чертям и чертовкам, участвующим в ней, разрешено в течение нескольких дней до начала мистерии свободно бегать по городу и деревням. Люди, одетые в костюмы чертей, чувствовали себя до известной степени внеобычныхзапретови заражали этим своим особым настроением и тех, кто с ними соприкасался. Вокруг них создаваласьатмосферанеобузданнойкарнавальнойсвободы.Считая себя вне обычных законов, «черти», будучи в большинстве случаев людьми бедными (отсюда выражение«pauvre diable»), нарушали частенько и права собственности, грабили крестьян и, пользуясь своею ролью, поправляли свои материальные дела. Совершали они и другие бесчинства. Поэтому часто издавались особые запрещения давать чертям свободу вне их роли.
Но и оставаясь в пределах своей роли, отведенной им в мистерии, черти сохраняли свою глубоко вне-официальнуюприроду.В их роль вводились и брань и непристойности. Они действовали и говорили вопреки официальному христианскому мировоззрению: на то ведь они и были чертями. Они производили на сцене невероятный шум и крик, особенно если была «большая дьяблерия» (т. е. с участием четырех и больше чертей). Отсюда и французское выражение:«faire le diable a quatre». Нужно сказать, что большинство проклятий и ругательств, где фигурирует слово «дьявол», в процессе своего возникновения или развития были непосредственно связаны с мистерийной сценой. В романе Рабле немало таких проклятий и выражений, явно мистерий-ного происхождения:«La grande diablerie a quatre personnages» (кн.I, гл.IV). «Faire d'un diable deux» (кн.Ill, гл.I), «Crioit comme tous les diables» (кн.I, гл.XXIII), «Crient et urlent comme diables» (кн.Ill, гл.XXIII) и такие очень распространенные в языке выражения, как«faire diables», «en diable», «pauvre diable». Эта связь ругательств и проклятий с дьяблерией вполне понятна: они принадлежат к одной и той же системе форм и образов.
Но мистерийный черт не только внеофи-
1 О шомонской дьяблерии см. работу: Jolibois. La Diablerie de Chaumont, 1838.
293
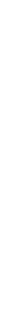 циальная
фигура,— это иамбивалентныйобраз, похожий в этом отношении надуракаи шута.
Он был представителемумерщвляющейи обновляющейсилыматериально-телесного
низа. Образ черта в дьяблериях обычно
оформлялся по-карнавальному. Мы
видим, например, у Рабле, что в качестве
вооружений чертей в дьяблерии Виллона
фигурирует кухонная утварь (это
подтверждается и другими свидетельствами).
О. Дризен в своей книге «Происхождение
Арлекина» (1904) приводит подробное
сопоставление дьяблерии с шаривари
(по«Roman du Fauvel») и обнаруживает
громадное сходство между всеми
составляющими их образами. Шаривари
также родственно карнавалу1.
циальная
фигура,— это иамбивалентныйобраз, похожий в этом отношении надуракаи шута.
Он был представителемумерщвляющейи обновляющейсилыматериально-телесного
низа. Образ черта в дьяблериях обычно
оформлялся по-карнавальному. Мы
видим, например, у Рабле, что в качестве
вооружений чертей в дьяблерии Виллона
фигурирует кухонная утварь (это
подтверждается и другими свидетельствами).
О. Дризен в своей книге «Происхождение
Арлекина» (1904) приводит подробное
сопоставление дьяблерии с шаривари
(по«Roman du Fauvel») и обнаруживает
громадное сходство между всеми
составляющими их образами. Шаривари
также родственно карнавалу1.
Эти особенности образа черта (и прежде всего — его амбивалентность и его связь с материально-телесным низом) делают вполне понятным превращение чертей в фигуры народной комики. Так, черт Эрлекин (правда, в мистериях мы его не встречаем) превращается в карнавальную и комедийную фигуру Арлекина. Напомним, что и Пантагрюэль первоначально был мистерийным чертом.
Таким образом, дьяблерия, хотя и была частью мистерии, была родственна карнавалу, выходила за рампу, вмешивалась в площадную жизнь, обладала и соответствующими карнавальными правами на вольность и свободу.
Именно поэтому дьяблерия, вышедшая на площадь, и позволяет мэтру Виллону безнаказанно расправиться с ризничим Пошеям. Здесь, совершенно так же, как и в доме де Баше, разыгрывание без рампы утопическойсвободыпозволяет расправиться всерьез сврагомэтойсвободы.
Но чем же Пошеям заслужил такую жестокую расправу? Можно сказать, что и с точки зрения дионисий-ского культа Пошеям, как враг Диониса, восставший против дионисовых игр (ведь он по п р и н ц и п и а л ь-ным соображениямотказался выдать костюм для театральной постановки), подлежал смерти Пенфея, то есть растерзанию на части вакханками2. Но и с точки зрения Рабле, Пошеям был злейшим врагом: он был как раз воплощением того, что Рабле больше всего ненави-
' См.: Driesen Otto. Der Ursprung des Harlekin, 1904. 2 В литературе XVI века было распространено карнавально-кухонное выражение «иенфсево рагу».
294
дел,— Пошеям был а г е л а с т о м, то есть человеком, неумеющимсмеятьсяивраждеб-н о относящимся к смеху. Правда, Рабле не употребляет здесь прямо этого слова, но поступок Пошеям — типичный поступок агеласта. В этом поступке сказывается отвратительная для Раблетупаяизлобнаяпиететнаясерьезность,боящаяся сделать священное одеяние предметом зрелища и игры. Пошеям отказалнародномувесельювдаре, в услуге, по принципиальным соображениям: в нем жила древняя церковная вражда к зрелищу, к миму, к смеху. Более того, отказал он именно в одежде для переодеваний, для маскарада, то есть в конечном счете для обновления и перерождения. Он — враг обновления и новой жизни. Это — старость, которая не хочетродить иумереть,это — отвратительная для Рабле бесплодная иупорствующаястарость.Пошеям — враг именно тойплощаднойвеселойправды осменеиобновлении,которая проникала собой и образы дьяблерии, задуманной Виллоном. И вот эта правда, ставшая на время силой, и должна была его погубить. Он и погиб чисто карнавальною смертью через разъятие его тела на части.
Образ Пошеям, обрисованный одним его поступком, имеющим символически расширенное значение, воплощает для Рабле дух готического века, с его одностороннейсерьезностью,основанной на страхе и принуждении, с его стремлением воспринимать всёsub specie aeternitatis, то есть под углом зрения вечности, вне реального времени; эта серьезность тяготела к неподвижной, незыблемой иерархии и не допускала никакой смены ролей и обновления. В сущности, от этого готического века с его односторонней окаменевшей серьезностью остались в эпоху Рабле только ризы, годные для веселых карнавальных переодеваний. Но эти ризы ревниво оберегались тупыми и мрачно-серьезными ризничими Пошеям. С этими Пошеям и расправляется Рабле, а ризы он все же использует для обновляющего карнавального веселья.
В своемроманеисвоимроманом Раблепоступаетсовершеннотак же, какВиллони как де Баше. Он действует по их методу. Он пользуется народно-праздничной системой образов с ее признанными и веками освященными правами на свободу и вольность, чтобы расправиться
295
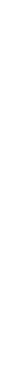 всерьез
со своим врагом — готическим веком. Это
— только веселая игра, и потому она
неприкосновенна. Но это игра без рампы.
И вот Рабле в атмосфере признанной
вольности этой игры совершает нападение
на основные догматы, таинства, на самое
святое святых средневекового мировоззрения.
всерьез
со своим врагом — готическим веком. Это
— только веселая игра, и потому она
неприкосновенна. Но это игра без рампы.
И вот Рабле в атмосфере признанной
вольности этой игры совершает нападение
на основные догматы, таинства, на самое
святое святых средневекового мировоззрения.
Нужно признать, что эта «проделка Виллона» Рабле вполне удалась. Несмотря на откровенность своих высказываний, он не только избег костра, но, в сущности, не подвергался даже сколько-нибудь серьезным гонениям и неприятностям. Ему приходилось, конечно, принимать подчас меры предосторожности, исчезать иногда на некоторое время с горизонта, даже переходить французскую границу. Но в обидев все кончалось благополучно и, по-видимому, без особых забот и волнений. За какие сравнительно пустяки, но сказанные без смеха, погиб на костре бывший друг Рабле — Этьен Доле. Он не владел методом де Баше и Виллона.
Рабле подвергался нападкам агеластов, то есть людей, не признававших особых прав за смехом. Все его книги были осуждены Сорбонной (что, впрочем, нисколько не мешало их распространению и переизданию) ; в конце жизни он подвергся очень жестокому нападению монаха Пюи-Эрбо; с протестантской стороны он подвергался нападкам Кальвина; но голоса всех этих агеластов остались одинокими; карнавальные права смеха оказались сильнее1. Проделка Виллона, повторяем, Рабле вполне удалась.
Но использование системы народно-праздничных форм и образов нельзя понимать как внешний и механический прием защиты от цензуры, как поневоле усвоенный «эзоповский язык». Ведь народ тысячелетиями пользовался правами и вольностями праздничных сме-ховых образов, чтобы воплощать в них свой глубочайший критицизм, свое недоверие к официальной правде и свои лучшие чаяния и стремления. Можно сказать, что свобода была не столько внешним правом,сколькосамимвнутреннимсодержаниемэтихобразов.Это был тысячелетиями слагавшийся язык«бесстрашнойречи»,
1 Державшаяся до последнего времени легенда о жестоких гонениях, которым Рабле якобы подвергся перед самою смертью, совершенно развеяна Абелем Лефраном. Рабле умер, по-видимому, вполне спокойно, не потеряв ни покровительства двора, ни поддержки своих высокопоставленных друзей.
296
речи без лазеек и умолчаний о мире и о власти. Вполне понятно, что этот бесстрашный и свободный язык образов давал и богатейшееположительноесодержаниедля нового мировоззрения.
Де Баше использовал традиционную форму «nopces a mitaines» не только для того, чтобы просто сделать избиение ябедников безнаказанным. Мы видели, что это избиение совершалось какторжественныйобряд, как выдержанное'и осмысленное во всех деталях смеховое действо. Этобылоизбиениебольшогостиля.Удары, сыпавшиеся на кляузников, были зиждительными свадебными ударами; они сыпались на старый мир (ябедники были его представителями) и одновременно помогали зачатию и рождению нового мира. Внешняя свобода и безнаказанность неотделимы и от внутреннего положительного смысла этих форм, от их миросозерцательного значения.
Такой же характер носило и карнавальное растерзание Пошеям. Оно также было выдержано в большом стиле и осмыслено во всех деталях. Пошеям был представителем старого мира, и его растерзание было положительно оформлено. Свобода и безнаказанность и здесь неотделимы от положительного содержания всех образов и форм этого эпизода.
Карнавальное оформление расправы со старым миром не должно вызывать нашего изумления. Даже большие экономические и социально-политические иереворо ты тех э п о х не могли не подвергаться известному карнавальномуосознанию и оформлению. Я коснусь двух общеизвестных явлений из русской истории. Иван Грозный, борясь с удельным феодализмом, с древней удельно-вотчинной правдой и святостью, ломая старые государственно-политические, социальные и в известной мере моральные устои, не мог не подвергнуться существенному влиянию народно-праздничных площадных форм, форм осмеяния старой правды и старой власти со всей их системой травестий (маскарадных переодеваний), иерархических перестановок (выворачиваний наизнанку), развенчаний и снижений.
Не порывая со звоЖм кшюколов, Грозный не мог обойтись и без звона шутовских бубенчиков; даже во внешней стороне организации опричнины были элементы карнавальных форм (вплоть до такого, например, карнавального атрибута, как метла),внутренний же быт опричнины (ее жизнь и пиры в Александровской
297
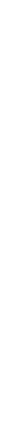 слободе)
носил резко выраженный карнавальный и
по-площадному экстерриториальный
характер. Позже, в период стабилизации,
опричнина не только была ликвидирована
и дезавуирована, но проводилась борьба
с самым духом ее, враждебным всякой
стабилизации.
слободе)
носил резко выраженный карнавальный и
по-площадному экстерриториальный
характер. Позже, в период стабилизации,
опричнина не только была ликвидирована
и дезавуирована, но проводилась борьба
с самым духом ее, враждебным всякой
стабилизации.
