ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 16.05.2024
Просмотров: 662
Скачиваний: 0
Проследим роль пиршественных образов по всему роману.
Все первые подвиги Пантагрюэля, совершенные им еще в колыбели,— это подвигиеды. Образ жаркого на вертеле является ведущим в турецком эпизоде Панурга. Пиром кончается эпизод тяжбы между Лижи-задом и Пейвино и также эпизод с Таумастом. Мы видели, какую громадную роль играет пир в эпизоде с сожжением рыцарей. Весь эпизод войны с королем Анархом проникнут пиршественными образами, преимущественно образами попойки, которая становится
308
почти главным орудием самой войны. Пиршественными образами проникнут и эпизод посещения Эпистемоном загробного царства. Сатурновским народным пиром в столице аморотов завершается весь эпизод войны с Анархом.
Не менее велика роль пиршественных образов и во второй (хронологически) книге романа. Действие открывается пиром на празднике убоя скота. Существенную роль играют образы еды в эпизоде воспитания Гар-гантюа. Когда в начале пикрохолинской войны Гарган-тюа возвращается домой, Грангузье устраивает пир, причем дается подробное перечисление блюд и дичи. Мы видели, какую роль играет хлеб и вино в завязке пикрохолинской войны и в эпизоде побоища в монастырском винограднике. Особенно богата эта книга всевозможными метафорами и сравнениями, заимствованными из области еды и питья. Кончается эта книга словами: «Et grand chere!»1
Меньше пиршественных образов в третьей книге романа, но они есть и здесь и рассеяны в различных эпизодах. Подчеркнем, что консультация Панургом богослова, врача и философа происходит во время обеда; тематика всего этого эпизода — вольное обсуждение природы женщин и вопросов брака — типична для «застольных бесед».
Роль пиршественных образов в четвертой книге снова резко усиливается. Эти образы являются ведущими в карнавальном эпизоде колбасной войны. В этой же книге дается в эпизоде с гастролятрами и самое длинное перечисление блюд и напитков, какое только знает мировая художественная литература. Здесь же дано знаменитое прославление Гастера и его изобретений. Проглатывание и еда играют существенную роль в эпизоде с великаном Бренгнарийлем и в эпизоде с «островом ветров», где питаются исключительно ветрами. Здесь есть глава, посвященная «монахам на кухне». Наконец, кончается книга пирушкой на корабле, с помощью которой Пантагрюэль и его спутники «исправляют погоду». Последние слова книги, завершающие длинную скатологическую тираду Панурга: «Выпьем!»
1 Обращает на себя внимание почти полное отсутствие пиршественных образов в эпизоде с Телемским аббатством. Подробно указаны и описаны все помещения аббатства, но, как это ни странно, забыта кухня, для нее не оказалось места в Телеме.
309

Какое же значение имеют в романе все эти пиршественные образы?
Мы уже говорили, что они неразрывно связаны с праздниками, со смеховыми действами, с гротескным образом тела; кроме того, они самым существенным образом связаны со словом,смудройбеседой, свеселойистиной.Мы отметили наконец присущую им тенденцию к изобилию и всенародности. Чем же объясняется такая исключительная и универсальная роль пиршественных образов?
Еда и питье — одно из важнейших проявлений жизни гротескного тела. Особенности этого тела — его открытость, незавершенность, его взаимодействие с миром. Эти особенности вактееды проявляются с полной наглядностью и конкретностью: тело выходит здесь за свои границы, оно глотает, поглощает, терзает мир, вбирает его в себя, обогащается и растет за его счет. Происходящая в разинутом, грызущем, терзающем и жующем ртувстречачеловекасмиромявляется одним из древнейших и важнейших сюжетов человеческой мысли и образа. Здесь человек вкушает мир, ощущает вкус мира, вводит его в свое тело, делает его частью себя самого. Пробуждающееся сознание человека не могло не сосредоточиться на этом моменте, не могло не извлекать из него ряда очень существенных образов, определяющих взаимоотношение между человеком и миром. Этавстречас миром в акте еды была радостнойи ликующей. Здесь человек торжествовалнадмиром,он поглощал его, а не его поглощали; граница между человеком и миром стиралась здесь в положительном для человека смысле.
Еда в древнейшей системе образов была неразрывно связана с трудом.Она завершала труд и борьбу, была их венцом и победой.Трудторжествовалв еде. Трудовая встреча человека с миром, трудовая борьба с ним кончалась едою — поглощением отвоеванной у мира части его. Как последний победный этаптрудаеда часто замещает собою в системе образов весь трудовой процесс в его целом. В более древних системах образов вообще не могло быть резких границ между едою и трудом: это были две стороны одного и того же явления — борьбы человека с миром, кончав-
310
шейся победой человека. Нужно подчеркнуть, что и труд и еда были коллективными; в них равно участвовало все общество. Эта коллективная еда, как завершающий момент коллективного же трудового процесса,— не биологический животный акт, а событие социальное. Если оторвать еду от труда, завершением которого она была, и воспринимать ее как частно-бытовое явление, то от образов встречи человека с миром, вкушения мира, разинутого рта, от существенной связи еды со словом и веселой истиной ничего не остается, кроме ряда натянутых и обессмысленных метафор. Но в системе образов трудящегосянарода,продолжающего завоевывать свою жизнь и еду в трудовой борьбе, продолжающегопоглощатьтолькозавоеванную,осиленнуючастьмир а,—пиршественные образы продолжают сохранять свое важное значение, свой универсализм, свою существенную связь с жизнью, смертью, борьбой, победой, торжеством, возрождением. Поэтому образы эти и продолжали жить в своем универсальном значении во всех областях народного творчества. Они продолжали здесь развиваться, обновляться, обогащаться новыми оттенками значений, они продолжали заключать новые связи с новыми явлениями. Они росли и обновлялись вместе с народом, их творившим.
Пиршественные образы, следовательно, вовсе не были мертвыми пережитками угаснувших эпох, пережитками, например, раннего охотничьего периода, когда во время коллективной охоты производилось коллективное растерзание и пожирание побежденного зверя, как это утверждают некоторые этнологи и фольклористы. Подобные упрощенные представления о первобытной охоте придают большую наглядность и кажущуюся ясность объяснениям происхождения ряда пиршественных образов, связанных с растерзанием и глотанием. Но уже и самые древние дошедшие до нас пиршественные образы (как и образы гротескного тела) гораздо сложнее этих примитивных представлений о примитивном: они глубоко осознаны, намеренны, философичны, богаты оттенками и живыми связями со всем окружающим контекстом, они вовсе не похожи на мертвые пережитки забытых мировоззрений. Совершенно иной характер носит жизнь этих образов в культах и обрядах официальных религиозных систем. Здесь действительно зафиксирована в сублимированном виде более древняя стадия развития этих образов. Но в народно-праздничной системе эти
311
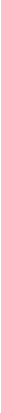

* * *
Особенно богатую жизнь вели эти пиршественные образы в гротескном реализме. Именно здесь нужно искать главные источники раблезианских пиршественных образов. Влияние античного симпосиона имеет второстепенное значение.
В акте еды, как мы сказали, границы между телом и миром преодолеваются в положительном для тела смысле: оно торжествует над миром, над врагом, празднует победу над ним, растет за его счет. Этот момент победного торжества обязательно присущ всем пиршественным образам. Не может быть грустной еды. Грусть и еда несовместимы (но смерть и еда совмещаются отлично). Пир всегдаторжествуетпобеду — это принадлежит к самой природе его. Пиршественноеторжество— универсально: это —торжествожизнинад смертью. В этом отношении оно эквивалентно зачатиюирождению.Победившее тело принимает в себя побежденный мир иобновляется.
Поэтому пир как победное торжество и обновление в народном творчестве очень часто выполняет функции завершения.В этом отношении он эквивалентенсвадьбе(производительный акт). Очень часто обе завершающих концовки сливаются в образе «б р а ч-ногопира»,которым и кончаются народные произведения. Дело в том, что «пир», «свадьба» и «брачный пир» дают не абстрактный и голый конец,— ноименно завершение, всегда чреватое новымначалом.Характерно, что в народном творчестве смерть никогда не служит завершением. Если она и появляется к концу, то за нею следуеттризна(т. е. погребальный пир; так, например, кончается «Илиада»); тризна и есть подлинное завершение. Это связано с амбивалентностью всех образов народного творчества: конец должен быть чреват новым началом, как смерть чревата новым рождением.
Победно-торжествующая природа всякого пира делает его не только подходящим завершением, но и не менее подходящим обрамлением для ряда существенных событий. Поэтому и у Рабле пир почти всегда либо завершает, либо обрамляет событие (например, избиение ябедников).
Но особенно важное значение имеет пир как существенноеобрамлениемудрогослова,речей,веселойправды.Между словом и пиром существует исконная связь. В наиболее ясной и классической форме эта связь дана в античном симпо-сионе. Но и средневековый гротескный реализм знал свою очень своеобразную традицию симпосиона, то есть пиршественного слова.
Соблазнительно искать генезис этой связи между едою и словом у самой колыбели человеческого слова. Но этот «последний» генезис, если бы и удалось его установить с известной степенью вероятия, немного бы нам дал для понимания последующей жизни и последующего осмысления этой связи. Ведь и для античных авторов симпосиона — для Платона, Ксенофонта, Плутарха, Афинея, Макробия, Лукиана и др.— эта связь между словом и пиром вовсе не была мертвым пережитком, а живо осмысливалась ими. Такой же живой и осмысленной была эта связь и в гротескном симпосионе и у его наследника и завершителя —
Рабле1.
В прологе к «Гаргантюа» Рабле прямо говорит об этой связи. Вот это место: «Должно заметить, что на сочинение этой бесподобной книги я потратил и употребил как раз то время, которое я себе отвел для поддержания телесных сил, а именно — для еды и питья. Время это самое подходящее для того, чтобы писать о таких высоких материях и о таких важных предметах, что уже прекрасно понимали Гомер, образец для всех филологов, и отец поэтов латинских Энний, о чем у нас есть свидетельство Горация, хотя какой-то межеумок и объявил, что от его стихов пахнет не столько елеем, сколько вином.
1 В обедненном виде традиция гротескного симпосиона продолжала, конечно, жить и дальше; мы встречаем ее в ряде явлений XIX века (например, в застольных беседах Бетховена); дожила она, в сущности, и до наших дней.
312
313
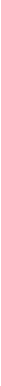

В начале автор дает нарочитое принижение собственных писаний: он пишет только во время еды, следовательно тратит очень мало времени на эти писания, как на штуку и безделку. Поэтому можно понять в ироническом смысле и выражение «высокие материи и глубокие вопросы». Но это принижение сейчас же снимается ссылкой на Гомера и на Энния, которые поступали так же.
Застольное слово — шутливое и вольное слово; на него распространялись народно-праздничные права смеха и шутовства на свободу и откровенность. Рабле и надевает этот защитный шутовской колпак на свои писания. Но в то же время застольное слово и внутренне по своему существу его вполне устраивает. Вино он действительно предпочитает елею: ведь елей — символ «постной»благоговейнойсерьезности.
Рабле был совершенно убежден в том, что свободную и откровенную истину можно высказать только в атмосфере пира и только в тоне застольной беседы, ибо, помимо всяких соображений осторожности, только эта атмосфера и этот тон отвечали и самому существу истины, как ее понимал Рабле,— истине внутренне свободной,веселойи материалистичной.